БАЛАКИРЕВ-ПЕДАГОГ
Вернуться
Балакирев — самый великий педагог по композиции за всю историю мировой музыки. Чем это можно обосновать? Прежде всего, конечно, результатами его работы в 60-е годы. Воспитать одновременно таких трех мирового класса гениальных композиторов-новаторов, как Мусоргский, Римский-Корсаков и Бородин, — это беспрецедентный факт. Музыканты эти вместе с Балакиревым, уже в период учения у него, образовали совершенно новую в Европе композиторскую школу, развиваясь при этом каждый по-своему, сразу же определив свои совершенно различные, резко индивидуальные черты творческих личностей. Молодой Балакирев направлял сверстников-учеников в новый, еще не изведанный художественный мир, учил их новому музыкальному языку, новой образности. Он обучал их новым способом, принципиально далеким от методов, систем ранее сложившихся курсов композиторского образования. И дело тут не в наличии или отсутствии консерватории как учреждения. Можно изучать контрапункт, технику вокального письма или инструментальных форм по тому или иному сложившемуся методу не в консерватории, а под личным руководством авторитетного педагога, будь то Мартини, Сальери или Ден. А в консерватории возможны, а сегодня и необходимы балакиревская раскованность, смелость, артистическая импровизационность в том, что направлено на высвобождение творческих сил ученика, его индивидуальных устремлений.
Странно было слышать на одном из собраний ленинградской творческой интеллигенции, как занимающий весьма высокий пост, уважаемый деятель уверенно сравнил членов популярных ныне самодеятельных рок-ансамблей с Бородиным, «тоже не имевшим высшего музыкального образования химиком». Значит, до сих пор неясно, что балакиревская педагогика — это именно самое что ни на есть высшее специальное музыкальное образование, вполне консерваторское по объему передаваемых знаний, но недосягаемое по уровню и таланту педагога-руководителя!
Трудность освоения этой педагогики в том, что сам Балакирев, обладавший великолепным литературным даром (это видно из его поразительно ярких и точных формулировок в переписке, например, со Стасовым), не оставил ни одной строки «методических пособий», учебников или хотя бы автобиографических записок. Он, так сказать, не выполнял «вторую половину
Его рано сложившиеся художественные вкусы и убеждения были тверды, определенны и устойчивы. И выражались не в трактатах, а в импровизациях нового типа. Импровизации эти представляли собой не академически гладкие или блестяще-виртуозные вариации или фантазии-рапсодии, а творчески веское продолжение, уточнение и развитие созданного талантливым учеником материала, его стилистически точную отшлифовку.
Другой великий педагог — Шёнберг (воспитавший, в свою очередь, двух гениальных мастеров, Берга и Веберна, а также высокоталантливого Эйслера), наследник немецкой педагогической школы и ярчайший новатор, оставил нам и учебник гармонии, и «методические разработки» своей системы и своих вкусов в статьях и высказываниях; Веберн (музыковед по первоначальному образованию) дополнил и развил их применительно к серийной технике, другие ученики и «музыкальные внуки» создали учебники додекафонии. Не то у Балакирева.
Его инстинктивно чуждавшаяся немецкой методичности художественная натура избрала взрывчатую, стихийную, непредсказуемую импровизацию формой выражения педагогических идей, формой творчески сильного и чуткого перевоплощения учителя в души учеников, в их ярко индивидуальный тематический материал. Поразить воображение, убрать все препоны шаблонных вкусов, приемов и привычек, научить ученика летать ранее, чем он научится ходить... Такова, думается, глубоко осознанная цель столь небывалого и столь естественного, изначально музыкального процесса балакиревских уроков-импровизаций.
В сущности, ведь не
Кем был Мусоргский до знакомства с Балакиревым? По воспоминаниям Бородина мы знаем: фатоватый юный офицерик, изящно и грациозно наигрывавший арии из «Трубадура» и «Травиаты» Верди. За несколько лет под воздействием Балакирева он стал совершенно другим человеком и музыкантом, стал великой личностью в русском и мировом искусстве. Морской офицер Римский-Корсаков был дилетантом, плывшим без руля и без ветрил в смысле вкуса и стиля своих сочинительских опытов. За два-три года занятий у Балакирева он совершил грандиозный скачок как композитор-профессионал и создал репертуарные по сей день сочинения, уже влиявшие не только на русскую, но и на европейскую музыку. Химик Бородин к тридцати годам был также типичным дилетантом, несколько более других опытным в отношении практического знания инструментов и форм, подражавшим безмятежно Мендельсону, отчасти Шуману и раннему Глинке. Лишь после посвящения в балакиревский кружок он развернулся как мощный композитор-новатор и ранее всего в сфере гармонического языка, ритмики и ладоинтонационной речи, создав Первую симфонию, удивившую даже Листа.
Какого же характера резкий перелом произошел в творческом сознании всех трех русских классиков под влиянием Балакирева? Здесь я должен кратко изложить свое личное композиторское представление о некоторых этапах истории русской музыки.
Она развивалась, по-моему, совершенно уникально, непохоже на другие музыкальные культуры. Музыкальное средневековье (его ранний период) затянулось, видимо, до конца XVI века. Благодаря этому до нас дошло, сохранилось многое в фольклоре и церковной музыке в живом бытовании. Старый крестьянский фольклор с его старинными ладами, натуральным строем, гетерофонно-подголосочным пением, модальностью и особыми тембро-интонациями у нас дожил почти до наших дней! То же можно сказать о монодической культуре обиходных напевов — церковных, раскольничьих, обрядовых. Современные ученые реставрируют их, опираясь на слуховой опыт недавнего воспроизведения этих монодий. Ладовое многообразие, переливчатую натуральность строя мы слышим в народных напевах и инструментальных наигрышах.
Иное в странах Западной Европы. Во Франции, например, даже мелодии трубадуров давным-давно забыты, модальная ладовость вернулась к французам на рубеже нашего века под воздействием тех же русских композиторов, о которых я веду речь...
Русский музыкальный ренессанс, видимо, можно отнести к XVI—XVII векам, к появлению строчного пения и других форм многоголосия в профессиональных композициях. Исследователи по-разному их расшифровывают. Мне, как ученику
Стиль партесного концерта (его образцы великолепно исследует и собирает
Первые крупные русские композиторы-профессионалы, писавшие не только хоровую музыку, — Березовский и Бортнянский творили в эпоху Моцарта и Бетховена. Эволюция шла семимильными шагами. Глинка явился и первым классиком мирового масштаба, и первым романтиком-новатором в русской музыке, достойным современником и сподвижником Берлиоза, Листа, Шопена, Шумана, даже Вагнера.
Видимо, перед Балакиревым встала новая, смелая задача — отныне русская музыка уже должна была вести вперед европейскую. Русская обиходная композиция и старый наш фольклор на западноевропейскую музыку не повлияли, они не были известны на Западе. Значит, нужно было творчески воспринять и переработать свои оригинальнейшие художественные ценности и открыть новые сферы выразительности, небывалые даже для современных романтиков. Задача эта, разумеется, предстала перед Балакиревым чисто интуитивно, но весьма определенно. Отсюда, мне кажется, некоторые очень жесткие, необычные особенности Балакирева как педагога. Это, прежде всего, вкусовая нетерпимость — черта, вообще типичная для музыкантов-новаторов, устремленных в будущее. Балакирев прежде всего воспитывал, бескомпромиссно отрабатывал острейший художественный вкус своих учеников. И далее, уже через вкус и стиль, вел их к новой технологии. Думаю, подобное явление свойственно и новаторским направлениям в живописи, поэзии, драме, художественной прозе.
Существенно, что вся работа с учениками над стилем шла у Балакирева на конкретной основе тщательнейшей проработки — по отдельным интонациям, мотивам, тактам, двутактам — тематизма во всех его звеньях и деталях. Судя по источникам, именно Балакирев впервые положил в основу своих уроков, своего курса не голосоведение, не контрапункт (нота против ноты, две ноты против ноты и так далее), не аккордику, не фактуру, не формы-схемы композиции, а темы-персонажи. Он заставлял многократно пересочинять, переделывать, дорабатывать сами темы, их основные попевки, интонации и гармонии. И в этом он также опередил свое время и предвосхитил советскую педагогику. Вспомним, как Мясковский и Прокофьев переписывались музыкальными темами! Мы учились уже тогда, когда педагог по композиции ждал от нас яркой темы, отвергая начисто материал недостаточно «свой», выстраданный, живой. Но первым направил учеников на поиски тематического золота, тематической живой воды Балакирев. И в этом его огромная заслуга.
Каковы же были ограничения, жесткие нормы отбора? Они касались не приемов, не диссонансов, а стилевых, интонационных, гармонических элементов. Отвергалось и в темах, и в их отдельных оборотах именно знакомое, привычное, тем более шаблонное. Принималось, вызывало интерес свежее, необычное, смелое.
Что же именно не принималось балакиревцами в первую очередь? Стилистика городского романса, к тому времени уже прочно освоенная в русском быту, разработанная многими авторами от Глинки и Дюбюка. Отчуждая себя от этой широко бытующей интонационной стихии (вскоре по-новому развитой и симфонизированной в творчестве Чайковского), Балакирев в известной мере «наступал на горло собственной песне». Ведь его популярные ранние романсы «Обоими, поцалуй», «Баркарола», «Взошел на небо месяц ясный», «Слышу ли голос твой» — это же типичная городская лирика, идущая от романсов Глинки именно подобного склада, это, так сказать, «окультуренный Гурилев»! Музыка самого Балакирева так часто отмечена элегантным изяществом отделки, певучей, лирически мягкой мелодикой и фактурой! Воспитывая новые вкусы, Балакирев начал с себя, занялся суровым самовоспитанием. Он заново учил не только своих товарищей, но и самого себя. Особый драматизм, героика Балакирева именно в этом: он часто учил тому, что противоречило композиторским свойствам его собственной натуры, отрицая тот тип лирики и жан-ровости, который давался ему самому легче всего. Это единство самовоспитания и влияния на сверстников, пожалуй, имеет некоторую аналогию лишь во взаимоотношениях Нурдрока и Грига. Но Нурдрок рано умер, и мы не знаем, во что вылилось бы их содружество. Под влиянием же Балакирева все члены кружка, кроме
Но тяготение к лирике неизбывно у каждого композитора. И Балакирев, а за ним его сотоварищи, особенно же Бородин и Римский-Корсаков, — еще шире, чем Глинка, — раскрыли ворота в необъятные края чувственно-пряных восточных напевов. Их ладовая основа богата. Это гармонический и мелодический мажор, помноженный на хроматическое опевание всех его ступеней во всех голосах. Это и особые натурально-ладовые обороты, полутоновые альтерации и двойные увеличенные секунды в миноре. Как ново и выразительно зазвучал привезенный Балакиревым с Кавказа стилевой пласт! И лирика, и жанровость балакиревцев — часто «евразийские» в основе своей...
Балакирев и его ученики не могли в полной мере ознакомиться с богатствами русской протяжной крестьянской песни, тогда еще не до конца раскрытой фольклористами. Позволю предположить, что этот слой фольклорной лирики мог бы стать еще одной великолепной альтернативой отвергнутому городскому романсу в творчестве балакиревцев. Доказательство, например, «Хор поселян», но его куплеты повторяют мелодию точно, а не вариантно (то же — в пьесе «В монастыре»). Вступление к «Хованщине» ближе к мелодически равноценным свободным вариантам, новым, самостоятельным напевам, вырастающим из единого корня в куплетах протяжных песен. Но фактура «Рассвета» сугубо гомофонна, в ней нет гетерофонных вариаций в одновременности, нет той поли вариантности многоголосия, которая присутствует в лирике хоровых протяжных песен. Мелодика Римского-Корсакова чурается линеарности, она подчеркнуто симметрична, ясно расчленена и варьируется по-глинкински (сохранение напева, вариантность полифонно-гармонической фактуры). В протяжной песне речевая интонация несколько абстрагирована от музыкальной, паузирование и грани мотивов как бы независимы от слов и слогов — а это чуждо речевому мелосу Мусоргского. И у самого Балакирева линеарная протяженность тематизма «ограждалась» четкой его артикуляцией, строгой выверенностью и самоценностью попевок, неприятием «водянистой расплывчатости». К тому же гомофонное мышление Балакирева и его учеников (единица фактуры — аккорд) препятствовало освоению гетерофонной, гармонически несогласованной многолинейности. Позже, у Стравинского и раннего Прокофьева, появилась как раз диссонантная гетерофония, но сами попевки еще более сконцентрировались, локализовались. Линеарное было отвергнуто как чувствительно-экспрессивное и вернулось лишь в обличье иного, неоклассического стиля у
Русскую протяжную песню я бы сравнил с невидимым градом Китежем, таинственно укрытым от глаз, веками таящимся в бездонной глубине... Но ведь это хотя и один из самых сокровенных, но далеко не единственный пласт нашего фольклора. Как разнообразно и по сей день свежо звучат разработанные балакиревцами жанры эпической былины и причета, скоморошьих наигрышей и духовного стиха, огромные по содержанию и объему циклы кале ндарно-обрядовый и свадебный (в котором так много сердечной лирики)! Первичный импульс этому гигантскому творческому труду дал еще в I860 году Балакирев, собравший, стилистически точно записавший (что ранее не удавалось никому) и по-новому обработавший русские народные песни различных жанров, бытовавшие тогда на Волге. Это была первая фольклорная экспедиция русского композитора. Изданный в 1866 году балакиревский сборник народных песен Чайковский счел возможным поставить в пример Льву Толстому...
Балакирев направил своих товарищей на создание сложноладовой мелодики и гармонии на основе фольклора, на создание такого нового даже для эпохи позднего романтизма стиля, который только через полвека начал утверждаться в Западной Европе. Римский-Корсаков свидетельствует с некоторым укором, что мелодии были не в чести в их кружке, а в чести были диссонирующие последования. Это интересно. Ведь иные авторы пресноватых однотональных опусов охотно ссылаются на Бородина, Балакирева, Мусоргского, — они-де тоже писали диатонично и благозвучно. Вовсе нет! Это же были музыкальные еретики! Ларош и другие критики преследовали их как модернистов, «диссонантников», внедряющих в качестве устоя (о, ужас!) большую и даже малую секунду! Мне кажется, что у самого Балакирева есть свой аккорд-монограмма. Вот он в схематичном изложении:
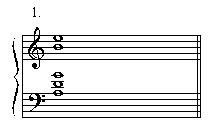
Это не бифункциональность, а квартовая полифункциональность: в нем доминанта, тоника и субдоминанта расположены по квартам, а сверху — VI и II ступени (тоже кварта): D—Т—S—VI—II. Это квартсептаккорд с ноной (второй секундаккорд на доминантовом басу), иногда и с секстой:
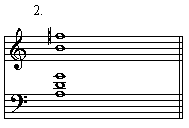
Реже он обращен в спокойный
Балакирев берег тематический материал от излишеств «немецкой колеи» в разработке — черта, воспринятая от Глинки. Модуляции и изысканные тональные перемещения тем, изобильные у Балакирева, заменяли расширение, развитие, продление мелоса. Это отчасти переняли его великие ученики, более всего Римский-Корсаков. Но у них больше щедрых тематических сопоставлений, сцеплений попевочного материала — тут уже путь к
В сущности, Римский-Корсаков многое воспринял от Балакирева и в своей педагогике. Не случайно в 20-е годы произошло обновление его системы, аналогичное самоопределению балакиревцев. Ученики Штейнберга (главного «корсаковца» в Петербургско-Ленинградской консерватории) вспоминают, что их учитель вслед за Римским-Корсаковым не разрешал приносить некую «основную линию», не допускал в учебных заданиях карандашных эскизов, «крупного помола», рассчитанного на последующую доводку деталей. Нет, работа шла именно подетально, иад каждым тактом отдельно. И у Балакирева ведь (вспомним ту же «Летопись») из первых четырех тактов ученика часто одобрялись первые два, а два других вычеркивались с подробной саркастической аргументацией...
Строгая избирательность вкуса Римского-Корса-кова тоже преемственно связана со вкусами Балакирева. Об этом свойстве хочу сказать особо.
Своего рода эстетика избегания, противления бытующим традициям и воскрешения традиций забытых — черта типичная для новаторских тенденций и направлений в искусстве. Хлебников, Маяковский любили Пушкина, но считали необходимым отмежевываться даже от него, «сбросить с корабля современности». Это не получалось, они любили его поэзию до конца жизни... Антиромантическая эстетика раннего
Мусоргский пишет в «Автобиографической записке» о «строгом систематическом анализе всех капитальных музыкальных творений музыкантов европейского искусства в их исторической
Итак, перед нами воистину современный анализ музыкальных произведений, а не тогдашний курс форм. Это был прежде всего анализ стиля. В последующей полемике Балакирева со Стасовым по поводу «Торжественной мессы» Бетховена выяснилось, что оба оппонента давным-давно знают почти каждую ноту. А знаем ли мы этот великий опус? Скажу честно, перечитав переписку, я впервые взял с полки эту партитуру и от доски до доски ее внимательно просмотрел. Стасов не был композитором, вкусы этого мощного борца были жестче, он отрицал всякую «итальянщину», заподозрив ее даже у Бетховена. Балакирев же судил о музыке потоньше.
Ориентируясь, по свидетельству Римского-Корсакова, на поздние квартеты Бетховена, на Шумана, Глинку, Листа и Берлиоза, игнорировали ли балакиревцы Вагнера? Вагнеристом считался (и был!) Серов, враждебный их кружку. Но именно в операх балакиревцев появились лейтмотивы, привившись в русской опере раньше, чем в какой-либо другой оперной школе после Вагнера. Так что — знали они Вагнера и учились у него. Балакирев пишет, что он понял, как нужно писать оперу, просматривая «скучнейший» дуэт из «Лоэнгрина» и прочтя роман Чернышевского «Что делать?». Сам он оперы не написал, но безусловно поделился своими мыслями с будущими авторами «Бориса», «Князя Игоря» и «Псковитянки».
Интеллектуальный уровень Балакирева был необыкновенно высок, он судил не только о музыке, но и о литературе, истории, философии на редкость интересно, критично и своеобразно. И в первом томе переписки со Стасовым его превосходство несомненно. Во втором томе перевес на стороне Стасова, явный надлом крыльев у Балакирева. Почему произошел этот надлом, — не так просто ответить. Ведь и Рубинштейн был вынужден уйти из своей консерватории, а не сломался. О Балакиреве мы вообще мало знаем. Этот общественный человек был неболтливым, несклонным к сердечным излияниям. Мы не знаем, например, любил ли он какую-нибудь женщину и кого именно (о Шопене же, вероятно, знаем больше, чем он сам). Почему бы не поверить сдержанной фразе Балакирева о «материальном устройстве, об котором пора было подумать»? — ведь ученики не подумали и не смогли помочь ему, хотя Бородин и высказывался об этом.
«Поздний Балакирев консервативен» ожесточен, это одинокий человек, испытавший и неблагодарность, и удары судьбы. Он ищет утешения и справедливости в религии. Многие былые друзья и питомцы «разочаровывались» в нем... Это слово — «разочарование», — по-моему, слишком прагматичное, если речь идет о человеке, научившем тебя, поддержавшем твои первые шаги. Он и не обязан всю жизнь только помогать, многое ему можно и простить... Остался же с ним, повторю, один
Времена, когда нужна педагогика новаторская, направленная на поиски нового в музыке, наступают регулярно. Такими были, видимо, первые годы нашего века, когда Прокофьев и Мясковский друг друга образовывали, каждый из них был для другого в роли Балакирева. Такой период был в 20-е годы, когда в противовес традиционной корсаковской школе
Сейчас, по-моему, вновь наступили времена, когда необходимы новые пути и в творчестве, и в педагогике.
Педагогический опыт Балакирева должен стать основным нашим подспорьем в классах композиции, в работе с молодыми, творчески одаренными музыкантами.
СЕРГЕЙ СЛОНИМСКИЙ
Вернуться
2 Имеется в виду празднование 150-летия со дня рождения Балакирева в Ленинграде в декабре 1986 года. — Ред. : (назад)
3 Мусоргский М. П., Литературное наследие. Письма, биографические материалы и документы, М., 1971, с. 268. : (назад)
4 Нельзя не пожалеть о неумышленной ошибке Стасова, пригласившего на встречу с Тургеневым всех балакиревцев и вместе с ними Рубинштейна, — последний и играл два часа, пока у Тургенева не началась мигрень. Так и не услышал он ни «Бориса Годунова», ни «Князя Игоря», а ведь кто знает, мог и оценить их в авторском показе... Не хотел ли Стасов сперва «угостить» Тургенева тем, что ему наверняка понравится? Но это уже совсем неправильная стратегия... Тот же Тургенев на вечере у певцов Петровых настолько оценил музыку Мусоргского, что написал неожиданные для западника слова: «Вперед, господа русские!» : (назад)